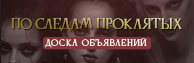Приказ «Довольно» врезался в сознание Габриэля как лезвие, вспарывая плёнку сосредоточенного забытья. Челюсть его разжалась с тихим щелчком, губы, влажные и чувствительные, остались приоткрыты в немом вопросе. Где-то глубоко внутри, там, где обычно пряталась нагловатая усмешка, ёкнуло оскорблённое самолюбие звереныша, которого оторвали от добычи. Но взгляд, встретившийся с глазами Джеймса, погасил эту искру в зародыше. Он увидел не приказ, а гранитное напряжение, в котором читалась не грубость, а предощущение, почти мольба, высеченная в скулах и в чуть дрогнувшем уголке рта. И всё внутри Габа оборвалось и послушно поплыло навстречу.
«Иди сюда». Рука, обхватившая его локоть, была твёрдой и без колебаний.
Он позволил поднять себя с колен - движение было плавным, но тело его не обмякло. Оно оставалось собранным, как пружина, каждый мускул помнил и напряжение минувшей ласки, и предвкушение новой. Когда он осел на бёдра Джеймса, прижатый всей плоскостью живота и грудью к груди, из его горла вырвался звук - глухой, сдавленный, будто выдох, которому не дали стать стоном.
А потом губы. Не поцелуй-благодарность, не поцелуй-милость. Это был поцелуй-продолжение, поцелуй-утверждение, с той же металлической нотой голода, что пульсировала и в нём самом. Габи ответил яростно, почти отчаянно, впиваясь, кусая, сливая дыхания в один прерывистый, обжигающий цикл. Мир сузился до шума крови в ушах, до вкуса чужой слюны и собственного желания, острого, как зубная боль.
И тогда - прикосновение. Рука Джеймса, скользнувшая между их тел, нашла его с такой уверенной, почти клинической точностью, что Габ дёрнулся всем телом, как от удара током. Голова его резко откинулась, обнажив шею, прерывая поцелуй. Потемневшие глаза, обычно прищуренные с хитринкой, распахнулись широко, и в них вспыхнуло дикое, животное изумление, поверх которого поползло понимание.
— Ах ты… чёртов… сыщик… — слова выходили хриплыми, сбитыми, перемежаясь с короткими, судорожными вдохами. Пальцы Джеймса двигались с методичной, неумолимой нежностью, вышивая узор наслаждения прямо по его взведённым нервам. — Играешь со…мной…как котенок…
С легкой насмешкой проговорил перевертышь. Ощущения накатывали волнами, каждая следующая горячее и неумолимее предыдущей. Его собственная рука, замершая на крепкой спине партнёра, вдруг впилась когтями в плечо, когда губы и зубы Джеймса коснулись его шеи. Не боль пронзила его — клеймо, метка, заставившая мурашки вздыбить кожу и закрутить внизу живота тугую, сладкую спираль.
И тогда он почувствовал ответное движение бёдер Джеймса, этот настойчивый, интимный толчок. Его собственное тело отозвалось мгновенно, инстинктивно, забыв на миг об осторожности, о боли, о всей той броне, что он обычно носил. Нужда в нём стала физической, плотской, пульсирующей в такт сердцебиению. И когда он заговорил снова, в его голосе не осталось ни тени привычного паясничанья. Только хриплая, сдавленная настоятельность, обнажённая, как нерв.
— Масло… — он выдохнул слово прямо в нагретую кожу между шеей и плечом Джеймса. — В простынях, за моей спиной… если ты… если ты ещё не передумал довести это до конца.
Он не просил. Он констатировал. Но его бёдра, уже двигавшиеся в такт пальцам Джеймса, его взгляд, тёмный, глубокий и бездонный в полумраке, говорили громче любых слов. В них читалось всё: и готовность принять, и вызов - «сделай это, если осмелишься».
И тут, как ледяная вода, нахлынуло воспоминание - не образ, а чувство: холод под спиной, грубые руки, всесокрушающая беспомощность. Оттуда же, из той тьмы, остались шрамы. Не героические отметины драк, а молчаливые, уродливые шрамы на ягодицах и бёдрах - печать насилия, вмятого в плоть.
Джеймс вот-вот коснётся их. Не как следов битвы, а как свидетельства унижения. Ледяной спазм страха и стыда сжал горло Габриэля, на миг затмив жар желания. Всё внутри закричало спрятаться, отвернуться, солгать.
Но он не сделал ни шага назад. Не отвёл взгляд. Воздух свистел в его лёгких, когда он заставлял себя дышать глубже, смотреть прямо в глаза Джеймсу.
Пусть чувствует.
Пусть знает.
Его смирение не уязвимость - это был акт безумного доверия. Сдача не тела, а самой тёмной своей тайны. И в этом акте, страшном и неизмеримом, заключалась новая, хрупкая свобода.